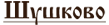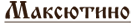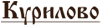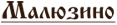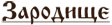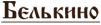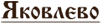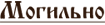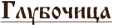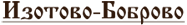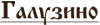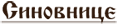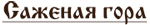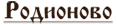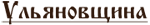Шигона передавал распоряжение великого князя воеводам, отправленным в Казанский поход
Князья Глинские
Во время предсмертной болезни Василий III назначил его и кн. Д. Ф. Вельского опекунами малолетнего наследника престола Ивана. Однако в ходе придворной борьбы, как крупная политическая фигура, он внушал опасения различным группировкам московской знати. Поэтому осенью 1534 г. он был брошен в заточение, где и умер в 1536 г. В 38 верстах от Александровой слободы находилось одно из владений князя Михаила Глинского. Вероятно, сам кн. Михаил, на положение боярина не перешел , но его племянники получили боярство около 1547 г. В первой трети XVI в. в Русском государстве существовала влиятельная прослойка так называемых «слуг», или «служилых князей», образовавшаяся в основных своих чертах в результате присоединения к России западнорусских земель. Это Мстиславские, Одоевские, Глинские, Воротынские, Вельские, Трубецкие и др. Они по своему положению занимали как бы промежуточное положение между удельными князьями и князьями Северо-Восточной Руси, потерявшими к концу XV—началу XVI в. суверенные права на старые княжения.
Потомки Редеги
Не менее важна роль Шигоны во внутриполитических делах. Еще в 1517 г. он вел расследование по обвинению в измене Василия Шемячича. Около 1520 г. по поручению Василия III говорил с его братом Дмитрием Ивановичем о «недозволенных речах», которые тот произносил по адресу великого князя. Около 1511 —1521 гг. именно И. Ю. Шигоне Поджогину для Василия Ш передавал царевич Петр сведения о своем здоровье. Его посланец должен был «молвити Шигоне, чтобы и о том государя доложил: к митрополиту ли наперед велит итить о здоровье спросити или ко князю Дмитрею Ивановичю?» В 1523/24 г. И. Ю. Шигона Поджогин вместе с М. Ю. Захарьиным разбирал дело о попытке бежать за рубеж муромских детей боярских. В 1524 г. Шигона передавал распоряжение великого князя воеводам, отправленным в Казанский поход.
Псковские керамические памятные плиты XVI века
Стрига-Оболенский больше года был псковским князем: в неделю 318 святых отцов (конец мая 1461 г. ) он съехал с княжения, и псковичи отправили в Москву посольство с просьбой о предоставлении наместника «и даша дару князю великому 50 рублев». Однако и после полного политического подчинения Пскова Москве (1461 г. ) дар мог передаваться не только великокняжеской семье. В июне — августе 1463 г. в конфликте с Ливонским орденом союзническую помощь Пскову оказывало войско под командованием московского воеводы князя Ф. Ю. Шуйского. Перед его отъездом бояре «даша ему дару от Пскова 30 рублев, а боляром его, что с ним были, даша 50 рублев».
Ростовские князья
В 1508 г. кн. Андрей упоминался как воевода кн. Юрия. Вскоре после этого (но до 1515 г. ) он постригся в монахи (под именем Арсения) и стал одним из самых видных старцев Иосифова монастыря. Потомки второго из сыновей князя Андрея Федоровича Ростовского — Федора (в их числе Щепины, Приимковы, Гвоздевы, Бахтеяровы) в изучаемое время себя ничем не проявили. Более примечательна ветвь ростовских князей, шедшая от Константина Васильевича, женатого на дочери Ивана Калиты. Из его шести сыновей (Иван, Василий, Глеб, Александр, Арсений, Владимир) четверо умерли бездетными. У Александра было трое сыновей: Андрей, бездетный Федор и Иван Пужбольский.
Рязанские князья
По русско-литовскому договору 1494 г. Александр Казимирович признавал вассальную зависимость обоих рязанских княжеств от Москвы. 29 мая 1500 г. кн. Иван Васильевич умер. На престоле оказался его малолетний сын Иван (родился в 1496 г. ). Князя опекали бабка Анна (до своей смерти в 1501 г. ), а затем мать — Аграфена. Около 1503 г. умер бездетный князь Федор, который передал свое княжество (несмотря на договор между братьями 1496 г. ) дяде Ивану III. О Рязани в годы правления Василия III известно очень мало.
Звонница Козьмодемьянской с Примостья церкви
В апреле 1454 г. Иван Дмитриевич перед окончательным отъездом в Литву посетил Псков. Он был принят здесь с «великой честью» и, пробыв в городе с 9 апреля по 1 мая 1454 г. , получил от псковичей «дару 20 рублев». При анализе феномена дара важно обратить внимание не только на оппозицию князя Ивана Москве, но и на его генеалогию. Иван Шемячич был правнуком великого князя Московского Дмитрия Ивановича (Донского) и дар от Пскова получил именно как представитель московского великокняжеского дома, хоть и отторгнутый от кормила власти. Строгость орнамента, доходившая в XV веке до его геометризации, смягчилась. Иногда богатство орнамента граничило с пышностью. В псковской резьбе XVI века появились сложные переплетения гибких стеблей, подсказанные наблюдением живых растений.
Стародубское княжество Семена Ивановича Можайского и его сына Василия
Князь Семен приходился дальним родичем Василию III: его дядя Василий Михайлович был женат на Марии Андреевне (племяннице Софьи Палеолог). Последний раз в источниках кн. Семен Иванович упоминается в декабре 1502 г. Наследником Семена стал его сын Василий. Чтобы прочнее привязать этого князя к себе, Василий III в 1506 г. женил его на сестре своей супруги. Вероятно, тогда же он «придал» ему отчину. В дальнейшем более десяти лет Василий Семенович верой и правдой служил Василию III. Так, уже в период восстания Михаила Глинского он вместе с Василием Шемячичем отправляется с войсками в Литву на выручку новому союзнику московского государя.
Архитектура второй половины XV — начала XVI столетия
Каменная структура не антагонистична здесь живому, а доверительна, хотя оттенок стихийной таинственности при этом сохраняется. Второй момент связан со стремлением к укромности, обособленности позиции молящегося, к интимности переживания: «попом и простьцем держати пости и поклон, и милостини и пенье нелицемерное втайне идеже не видит никтоже, не слышит но токмо един бог; в малей церкви, еже есть келья своя ти ту есть лепо; а в великой церкви пети и кланятися до земы то есть не все за ся, но господня часть за ся, ако все за кристьяны и за князя: вернии бо человецы в своей клети бога моляща кланяються за кристьяны и за князя». Эти слова невольно вспоминаются в угловых помещениях псковских церквей, они же определяют многое в их общей пространственной выразительности. Насколько подобные настроения были распространены, показывает сама история псковского монашества.
Архитектура второй половины XV — начала XVI столетия
Он, возможно, определял величину Троицкого собора, ему же будут равны самые крупные кончанские Храмы — Богоявление на Запсковье и Успение с Пароменья, чуть Меньше — Козьма и Дамиан с Примостья. В московской архитектуре это размер домовой церкви великого князя, но дело не только в разном масштабе того или иного искусства, а еще и в том, что ни одно из зданий, сооруженных в Москве псковичами, не вышло за пределы привычного им масштаба, и в этом могли проявиться не только позиции заказчиков, но и выбор мастеров, определяемый их вкусом и привычками. Следующий этап развития псковской архитектуры относится к двум десятилетиям рубежа веков — 1490—1510 гг. Его верхняя граница определяется потерей Псковом самостоятельности, его непосредственным подчинением московскому великому князю.
Пушечный амбар
Исчезновение формулы «одерень» в новгородских актах этого времени было вызвано, скорее всего, сменой всего документооборота в результате инкорпорации Новгорода в состав Москвы. Распространение на новгородские пятины верховной собственности великого князя на землю привело к прекращению документально оформленного процесса купли-продажи земли. На новгородском севере в разряд оброчных земель великого князя («княжщинных») были переведены лишь отдельные владения в нижнем течении Двины и по берегу Белого моря. Основная масса земель на Двине продолжала оставаться чернокунскими, а их владельцы до 1560-х годов распоряжались своей землей на прежних основаниях и использовали при составлении актов старый формуляр эпохи независимости. Обращение к новгородско-двинским актам позволяет предположить, что зона распространения формулы «оде-рень», охватывавшая территорию от Пскова до Двины, представляла собой одновременно регион особых отношений с сфере землевладения, характеризующийся меньшим влиянием государства и большей свободой в сфере мобилизации земли, нежели на территории Волго-Окского междуречья.
Двор Русиновых
Летом 1509 г. был лишен кафедры новгородский архиепископ Серапион, вмешавшийся в конфликт Иосифо-Волоколамского монастыря с удельным князем Борисом. Василий III мог теперь не опасаться выступления авторитетного Серапиона на стороне псковичей. С Литвой продолжалось перемирие, и Псков лишился внешнеполитической опоры в защите своих интересов. 26 октября 1509 г. Василий III прибыл в Новгород в сопровождении брата — удельного князя Андрея, касимовского царевича Петра и многочисленного двора. «Новгородский поход» Василия III был продуманной акцией, цель которой состояла в ликвидации независимости Пскова.