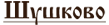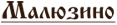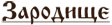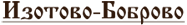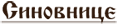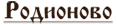Архитектура второй половины XV — начала XVI столетия
В указанных формах много традиционного, в той или иной форме встречавшегося еще в соборе Снетогорского монастыря или Никольской церкви в Изборске. Сумрачность, некоторая тревожность и неожиданность развития форм, отсутствие ясной доминанты, стремление к небольшим полузамкнутым пространствам, камерам или приделам, шероховатая поверхность стен, чья масса не «закована» четкими плоскостями и прямыми линиями, ощущение вещности, материальности, которая в зависимости от освещения и настроения воспринимается то как затесняющая, угрожающая, то как защищающая, укрывающая,— все это составляет основу псковского искусства.
Многие перечисленные черты выразительности псковских церквей можно соотнести с особенностями церковной жизни города. Во главе церковной иерархии официально стоял новгородский архиепископ, но уже с 1348 г. повседневное управление перешло к выбиравшемуся из псковичей владычному наместнику. На обязанности архиепископа оставались регулярные визитации для отправления владычного суда и получения «подъезда». Длительное, как бы постоянное отсутствие владыки вызвало возвышение местного духовенства, коллективного руководства жизнью, и не только церковной, обычной формулой общественных постановлений и летописных известий стали слова «все божие священство и весь Псков»5. Церковная жизнь в Пскове протекала совсем не так централизованно и обособленно, как в Новгороде. Церковные дела подвергались рассуждению и решению даже на вече (в послании митрополита Киприана псковичам: «что есмь слышал, аж во Пскове миряне судят попов и казнят их в церковных вещах...»).
Отсутствие строгого вертикального единоначалия церковной иерархии стало одной из причин широко распространившейся во второй половине XIV в. ереси стригольников. Их основной тезис состоял именно в отрицании иерархии, в констатации продажности ее высших и низших чинов — недостойных, поставленных на мзде, духопродавцев. Поэтому избрание пастырей, согласно стригольникам, должно идти по нравственным и духовным качествам снизу — «да аще добр научит простый то и добро», или еще одна замечательная по своей выразительности формулировка — «егда пастуси возволь-чатся, тогда подобает овцы паствити».
Подобные взгляды приводили к практическому отрицанию таинств покаяния и причащения, к отрицанию воскресения из мертвых.
Стригольники были жестоко преследуемы официальной церковью. Но для нас важно отметить искренность их поиска индивидуальной нравственной чистоты. Никоим образом нельзя представлять стригольников противостоящими христианской вере, это были глубоко верующие и добродетельные люди, что признавали и их противники: «аще бо не чисто житие их видели люди, то кто бы веровал ереси их».
Нам хотелось бы отметить два момента религиозного переживания, один из которых является отголоском какого-то специфического стригольнического обряда, а второй был видимо распространенным в XIV в. Первый состоит в поклонении и покаянии земле. Стригольники «велят земли каятися человеку», «вшед (в церковь) припади к вышнему и лицем землю покрый и принуди его (бога) помиловати тя».
Это высказывание не канонично, но в нем содержится отголосок того душевного состояния, которое выразило себя в особой вещественности каменной оболочки псковских церквей, в которой холодная стихия застывшего, схваченного раствором камня соединяется с ремесленной рукотворностью, человеческой «обжитостью», теплотой поверхности. Каменная структура не антагонистична здесь живому, а доверительна, хотя оттенок стихийной таинственности при этом сохраняется.
Второй момент связан со стремлением к укромности, обособленности позиции молящегося, к интимности переживания: «попом и простьцем держати пости и поклон, и милостини и пенье нелицемерное втайне идеже не видит никтоже, не слышит но токмо един бог; в малей церкви, еже есть келья своя ти ту есть лепо; а в великой церкви пети и кланятися до земы то есть не все за ся, но господня часть за ся, ако все за кристьяны и за князя: вернии бо человецы в своей клети бога моляща кланяються за кристьяны и за князя».
Эти слова невольно вспоминаются в угловых помещениях псковских церквей, они же определяют многое в их общей пространственной выразительности. Насколько подобные настроения были распространены, показывает сама история псковского монашества. Ни пустынножительство, ни общежительные монастыри не получили в Пскове XIV в. развития. Для первого не хватало отрешенности от мира и напряженности духовного переживания, для вторых — общинной соединенности молитв и отказа от мирских различий, Наиболее подходящими оказались келиотские, особножительные монастыри очень небольшие, от 2 до 7 человек (последние считались большими) имущественные вклады, делаемые при поступлении, возвращались при выходе из монастыря. Отдельный быт и отдельное питание («особь койждо себе в келиях ядяху») — и совместное присутствие лишь в церкви. Но при таком сознании и образе жизни и в церкви искалась возможность обособления — небольшие камеры, приделы, иногда кельи, иногда просто ниши (как, например, еще в XII в. на хорах у собора Иоанна Предтечи).
Два крупнейших псковских монастыря, Мирожский и Снетогорский, были общежительными, но в XIV—XV вв. они не имели еще письменных уставов, образ жизни в них вызывал многочисленные упреки сохранением отдельной собственности, отсутствием общих трапез и т. п.
Вопреки распространенному мнению о том, что монастыри Пскова XII—XIV вв. были и пригородными, и городскими, И. К. Лабутина, как уже указывалось, убедительно продемонстрировала, что все псковские монастыри основывались вне города, но рядом с ним, являлись пригородными, ближними и дальними.
Отрывок из книги Комеч А.И. - Каменная летопись Пскова XII - начала XVI в.