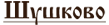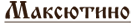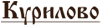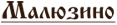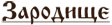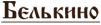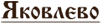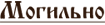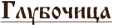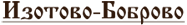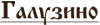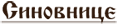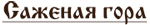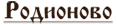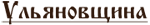Сразу после присоединения Пскова в городе появились два дьяка: Мисюрь Мунехин Мунохин и Андрей Волосатый
Памятники юго-западной части Полонища
Скорее можно предположить первое, и тогда получается, что все дьяки в Пскове первой половины XVI в. присылались из Москвы и, сменяя друг друга подобно наместникам, проживали в казенных «дьяских дворах». Время от времени дьяки отзывались в Москву, как, например, Колтыря Раков в 1534 г. , «уставивший» до этого «многие пошлины». Присоединение Пскова к Москве и появление здесь новой администрации привело к полной смене всего документооборота. Пересмотру подлежали все выданные ранее вечем и посадниками жалованные грамоты на землю. Сохранились и изданы выданные в 1510 г. новые жалованные грамоты Никольскому монастырю из Гдова и Верхнеостровскому Петропавловскому монастырю, но они не были исключением; из акта 1623 г. известно, что подобной грамотой располагал Иоанно-Предтеченский монастырь и монахи, когда понадобилось, «положили… жалованную грамоту блаженныя памяти прадеда нашего великого князя Василья Ивановича всеа Русии, лета 7018 году…» (1510 г. ).
Выезжие иноземцы (Ховрины, Траханиотовы)
Он был тесно связан с виднейшим боярином князем Юрием Патрикеевичем. В 1457 г. упоминается среди послухов в данной этого князя, а дочь Ховрина была замужем за сыном Юрия Патрикеевича Иваном. В 1458 г. Владимир Григорьевич выступал в качестве послуха в меновной В. Т. Остеева, племянника боярина времен Василия II. Около 1468— 1478 гг. послушествовал он и в купчей великокняжеского дьяка Степана Бородатого. Около 1462—1478 гг. , около 1463 г. и около 1465—1469 гг. в качестве боярина присутствовал на докладе у Ивана 111. Около 1470—1485 гг. подписал жалованную грамоту, выданную Ф. М. Киселеву.
Стародубское княжество Семена Ивановича Можайского и его сына Василия
Весной 1515 г. на вотчину Василия Семеновича, когда князь отправился по вызову Василия III в Москву, напали войска Менгли-Гирея. В сентябре 1518 г. в Крым сообщалось, что кн. Василий Стародубский умер. Его громадная вотчина перешла к Василию III. В. Д. Назаров в неопубликованной пока работе выдвинул весьма правдоподобное предположение, что кн. В. С. Стародубский владел некоторое время Хотунской волостью. Так, в межевой грамоте 1518/19 г. упоминается, что дворцовый дьяк Александро «межы чинил и ямы копал со князем с Васильем Стародубским» в Хотунской волости. Вместе с тем в февральской грамоте 1519 г. Василий III выдавал льготы Троицкому монастырю на с. Дубо-шино Хотунской волости, которую дал в монастырь «слуга наш князь Василей Семенович». Очевидно, кн. Василий Семенович (Стародубский) обладал в Хотуни какими-то суверенными правами. Позднее Хотунь была дворцовой волостью.
Выезжие княжата, потерявшие титулы (Всеволож-Заболоцкие, Еропкины, Палевы)
Еще в 1434 г. он находился на наместничестве в Обонежье. Некий Григорий Васильевич упоминается как послух у дьяка Ивана Поповки около 1435—1437 гг. В конце правления Василия II был на наместничестве в Новгороде. Его посельский прикупал земли Переславского уезда для своего господина около 1462—1478 гг. У Заболоцкого были свои вассалы, «закладывавшиеся» к нему с землей. В 1471 г. он был волостелем на Двине. После 1462 г. , но до 1485 г. (скорее всего, в 70-х годах) он проиграл местническое дело В. Ф. Сабурову.
Кобылины
В январе 1506 г. боярин Яков Захарьич, казначей Дмитрий Владимирович, печатник Юрий Траханиот и дьяки «являли» царевичу Петру великокняжескую милость: сообщили о согласии Василия III выдать за него замуж сестру московского государя. В апреле того же года он присутствовал на свадьбе кн. В. С. Стародубского. В сентябре 1507 г. , как и в 1502 г. , Яков Захарьич был вторым воеводой большого полка (при кн. В. Д. Хо-лмском), отправленного с русской ратью на Литву. В апреле 1508 г. присутствовал вместе с В. Д. Холмским и дьяком Семеном Борисовым на докладе поземельного спора князей Кемских Василию III. В осеннем походе 1508 г. он уже возглавлял большой полк. Во время осеннего подхода 1509 г. Василия III в Новгород Яков Захарьич был оставлен в Москве {очевидно, по старости). Умер он 15 марта 1510 г. Второй из Захарьичей — Юрий — еще около марта 1471 г. был волостелем в двинских волостях Кегроле и Чакале.
Ближайшие окрестности Пскова
Собор Снетогорского монастыря в XIV веке. Реконструкция Важнейшим свидетельством земской реформы в Пскове, осуществленной после 1549 г. , является грамота дьяку Ш. Билибину и старостам Б. Ковырину и С. Мизинову о наборе среди горожан каменщиков и посылке их в Казань. Б. Н. Флоря интерпретирует эту грамоту как свидетельство сохранения в Пскове организации «гостей», старосты которых располагали властью над посадским населением24. Рассмотрение этой грамоты в контексте с другими документами 1560— 1580-х годов не позволяет признать этот вывод справедливым: более вероятно, что «большие» старосты появились здесь в результате преобразований первой половины 1550-х годов.
Традиции псковского ремесла
Вернемся к летописным упоминаниям бояр в последней четверти XV в. В Псковской 3-й летописи содержится сообщение об отправке к Ивану III посольства, состоявшего из четырех человек: «2 посадника, Коузмоу Тилкина да Гаврила Картачева, а с ними 2 боярина, Опимаха Гладкого да Андрея Иванова сына попова рождьякона». Хотя слово «рождьякон» не поддается толкованию, очевидно, что боярин Андрей Иванов был сыном священнослужителя. Его боярство было выслуженным, как и боярство упоминаемых в договоре 1509 г. городских дьяков Алексея Михайловича и Захарии. Перечень бояр в договорной грамоте 1509 г. не дает оснований считать их аристократическим сословием феодалов-землевладельцев.