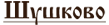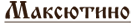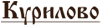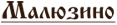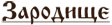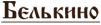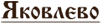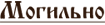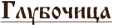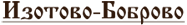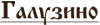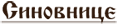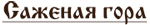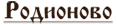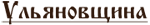У князя Глеба было три сына: Василий, Иван Смотра и Федор Шист
Псковская архитектура XII в.
Антоний был признан игуменом своего монастыря лишь в 1131 г. , и признал его епископ Нифонт; предшественник Никона Иоанн (1108—1130) отказывал Антонию в признания. Возвести же каменный собор в Новгороде при неприязни епископа можно было лишь при помощи князя. И в самом деле, общая композиция настолько сближает собор с княжескими памятниками, что весьма вероятно участие в его создании тех же зодчих. Собор напоминает княжеские постройки следующими чертами: пропорциями плана, лестничной башней, примыкающей к северозападному углу, трехглавием, высотой устройства хор, общей значительной высотой, делающей новгородские памятники грандиозными независимо от плановых размеров.
Старое Примостье
Политическое влияние наместника не исчерпывалось его личным административным и военным авторитетом, но питалось из разных источников. Социально-политические отношения в эпоху средневековья не исчерпывались эксплуатацией населения и насилием власти. Весьма важным для человека эпохи средневековья было поведение князя в критических ситуациях, даже тогда, когда от его личных усилий мало что зависело, и отсюда рос его авторитет как сакральной фигуры. Однако представители разных династий обладали различной совокупностью прав на властные полномочия. Так, князья Ярославичи пользовались в Пскове особыми правами, утвержденными еще при Александре Невском. Как подчеркивал М. Блок, в эпоху средневековья идея династической легитимности была развита гораздо сильнее идеи личной легитимности.
Опыт исторического суждения о псковской архитектуре
Объектом интерпретации является рисунок XVII в. , сохранившийся в копии XIX в. и уже получивший верную оценку А. И. Некрасова. Н. Н. Воронин значительно расширил и развил уже высказанные положения, извлек из них более детальные выводы, которые использовал в своем очерке, а развернутый анализ опубликовал в виде большой статьи. Основываясь на формах реконструируемого нм собора XII в. , Н. Н. Воронин связывает их со смоленской художественной традицией конца столетия и относит возведение каменного здания к 1193 г. , когда в него были перенесены мощи князя Всеволода Мстиславича. Никаких специфических, самостоятельных черт зодчества Пскова в XII в. Н. Н. Воронин не фиксирует, искусство первой половины столетия живет для него «в тени Новгорода», а в конце столетия оно примыкает к «прогрессивным» традициям Витебска и Смоленска. Эпитет «прогрессивные» автором не расшифровывается, скорее всего, он является простым отголоском распространенных общественных и политических оценок начала 1950-х годов.
Каменная гражданская архитектура
Итак, на протяжении второй половины XV — начала XVI в. в летописях зафиксировано \ 1 фактов получения князьями от города Пскова денежных сумм от 20 до 150 рублей под названием «дар». В шести случаях он передавался великому князю; кроме того, получателями дара были сын и внучатый племянник великого князя Василия II, невеста и родные братья Ивана III. Очевидно, что в летописи зафиксированы далеко не все факты получения дара князьями, но столь же очевидно, что перед нами не случайная выборка, а устойчивая традиция.
Гедиминовичи
Иное дело — потомки Юрия Патрикеевича. Старший сын князя Юрия, Василий, очевидно, рано умер и поэтому в источниках XV в. не встречается, а младший, Иван, стал крупным политическим деятелем. В годы феодальной войны второй четверти XV в. об Иване Юрьевиче еще ничего не слышно. Вероятно, он был тогда слишком молод, чтобы принимать активное участие в бурных событиях. В 1455 г. князь Иван был послан против татар во главе рати, направленной к Оке.
Псковские керамические памятные плиты XVI века
В декабре 1479 г. из Пскова в Новгород к находившемуся там великому князю отправилось внушительное посольство, состоявшее из князя и посадников, которое передало своему «осподарю» поминок в 65 рублей. В сентябре 1480 г. 20 рублей (по другим данным — 200) получили братья великого князя Андрей и Борис, которые, вступив в конфликт с Иваном III, «отъехали» в Псков. Из двух фигурирующих в источниках цифр наиболее вероятна первая, поскольку даже дар великому князю по. летописным данным никогда не превышал 150 рублей. В сентябре 1485 г. в Москву отправилось посольство — князь Ярослав с посадниками — просить о прощении псковичей за несанкционированную казнь смердов во время «брани о смердах» 1483—1485 гг. (подробнее см. гл. 3). Размер поминка великому князю составил 150 рублей.
Тверские князья
Князь Михаил принимал участие в отражении нашествия Ахмата на Угре в 1480 г. Летом 1485 г. он возглавлял тверское посольство, отправленное в Москву. В сентябре того же года он отворил ворота Твери Ивану III. Однако 29 сентября он был «пойман» под лицемерным предлогом: «покинул князя своего у нужи, а целовав ему, изменил». Брат кн. Михаила кн. Данила Дмитриевич еще в 60-х годах XV в. перешел на московскую службу. Князь Иван Юрьевич Зубцовский был двоюродным братом Михаила Борисовича.
Двор Русиновых
Как отмечает летописец, процедура его возведения на княжение была существенно упрощена: вместо обычно принятого крестного хода наскоро отслужили молебен на Торгу, и у Троицкого собора московский наместник был объявлен князем. И. М. Репня-Оболенский участвовал во внешнеполитической деятельности: он подписывал договор Пскова с Ливонским орденом незадолго до Благовещенья (25 марта) 1509 г. 7 За два года его наместничества у псковичей накопилось к Ивану Михайловичу немало претензий. Летописные записи за 1509 г. предельно кратки и не содержат упоминаний о посольствах псковичей в Москву, но можно предположить, что попытки жаловаться на князя предпринимались псковской верхушкой и до ноября 1509 г. Между тем осенью 1509 г. для Василия III сложились исключительно благоприятные обстоятельства, чтобы окончательно решить псковскую проблему. Летом 1509 г. был лишен кафедры новгородский архиепископ Серапион, вмешавшийся в конфликт Иосифо-Волоколамского монастыря с удельным князем Борисом. Василий III мог теперь не опасаться выступления авторитетного Серапиона на стороне псковичей. С Литвой продолжалось перемирие, и Псков лишился внешнеполитической опоры в защите своих интересов.
Протасьевичи
Его четыре сына (Иван, Александр, Дмитрий и Василий) в конце XV в. были испомещены в Новгороде. У брата Федора Вельяминовича Алексея Великого был сын Федор, имевший, в свою очередь, двух сыновей — Данилу и Владимира. Двое детей первого (Иван и Семен) также находились при дворе дмитровского князя Юрия. А сам Данила в 1517/18 г. был его боярином и дмитровским наместником.