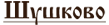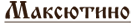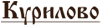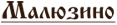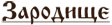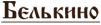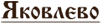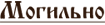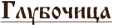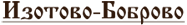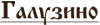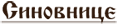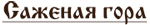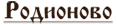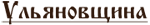Усиливаются старые и возводятся новые крепостные стены, ставятся десятки крепостных башен, превращающихся в дополнительный элемент объемной и силуэтной композиции города
Архитектура второй половины XV — начала XVI столетия
Однако западные столбы не имеют обычного сдвига к востоку, они отодвинуты от центра к западным углам примерно на 15—20 см. Восточные столбы, как и положено, сдвинуты к востоку примерно на 60 см, на половину толщины восточной стены. Из-за подобных перемещений подкупольное пространство увеличилось по отношению к исходному модулю и приобрело прямоугольные очертания, его размеры 3,47 и 3,58 м (поперечные) и 3,7 м (продольные). Апсида резко увеличена по ширине, которая достигает 4,2 м, из-за этого стены вимы резко расширяются к востоку.
Архитектура первой половины XIV в.
Пока, в середине XIV в. , город еще невелик, парадное значение детинца акцентируется Троицким собором и линией мощной каменной стены — «персей» с рвом («Греблей») и Довмонтовым городом перед ними. «Обжитость» пейзажа и его архитектурная освоенность увеличиваются приходскими храмами — к семи уже существовавшим добавились в первой половине XIV в. еще девять, семь из них стояли уже на посаде, защищенном с юга каменной стеной 1309 г. Хотя крепости псковской земли этого времени не сохранились, все же можно реконструировать некоторые их особенности, определявшие архитектурный ландшафт Пскова и его пригородов. В отличие от западноевропейской традиции, когда башни, донжоны являлись доминантами оборонительных комплексов, псковские крепости были прежде всего оградами — не очень высокими и тонкими (толщина стен около 1 м, как в церковном строительстве), с воротами (в стене Пскова 1309 г. было трое ворот), но без башен, которые пристраивались постепенно позднее. Крепости не подчиняли пейзаж своей каменной структуре, их стены гибко следовали очертаниям места. В самом их облике (примером может служить Изборск, сохранивший общие очертания, хотя стены неоднократно усиливались впоследствии и к ним с конца XIV в. пристраивались башни) кет ничего угрожающего и наступательного, назначение стен — охранить поселение, дать защиту.
Старинная штукатурка
Здесь был узел больших, имеющих важное значение улиц. От него начиналась Петровская улица и поперечная улица Среднего города, проложенная на месте стены Старого Застенья, а также улицы, шедшие от площади Старого торга. Перекресток был украшен еще церковью Бориса и Глеба, но храму Петра и Павла принадлежало более ответственное место.
Псковская архитектура XII в.
Она отнесла обе постройки к одному периоду и датировала собор Мирожского монастыря 1137—1138 гг. В своей прекрасной статье, раскрывшей историю формирования собора Мирожского монастыря, Г. М. Штендер и М. И. Мильчик предлагают датировать собор 1151—1152 гг. Мы считаем это маловероятным, и вот почему. В 1149 г. Нифонт уходит из Новгорода в Киев, вызванный на утверждение великим князем Изяславом и митрополитом Климом, где его задержали («посади в Печерьском манастыре»). Лишь в 1150 г. он возвращается в Новгород на год. В 1151 г. и архиепископ, и строители — в Новгороде, где у Софийского собора стены извне покрываются штукатуркой и устраивается новая свинцовая кровля — «архиепископ Нифонт поби святую Софию свиньцемь всю прямь и извистию маза всю около». В 1153 г. артель вместе с Нифонтом уходит в Ладогу, где возводит церковь Климента. Для создания двух псковских соборов остается лишь один 1152 год, что практически невозможно. Как показывают последние исследования, строительство в Ладоге продолжается до 1164—1166 гг. , когда там возводится церковь Георгия.
Опыт исторического суждения о псковской архитектуре
Для понимаемого таким образом столь демократического и упрощенного искусства беленые стены и своды оказываются даже предпочтительнее монументальной живописи,— и опять как нечто более близкое ереси, чем православному канону: многие из церквей, «по-видимому. не были расписаны. Интерьер храма говорил с молящимися непосредственным языком архитектурных форм; стены и ступенчатые своды, были, вероятно, покрыты лишь побелкой, и среди этой белизны ярче горели краски иконостаса. Эти черты псковского храма невольно заставляют вспомнить о псковской ереси стригольников, отрицавших церковный культ и учивших о непосредственном общении человека с богом». Подобные толкования не развивают предшествующую традицию, а снижают ее до вульгарности и бытовой примитивности. А ведь сам Н. Н. Воронин настойчиво подчеркивает творческую смелость приемов псковских зодчих, создавших Троицкий собор, для автора — центральный памятник Руси XIV в. , через который традиции домонгольского искусства были переданы мастером XV—XVI вв.