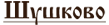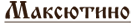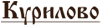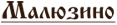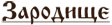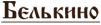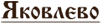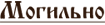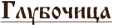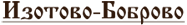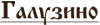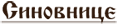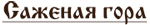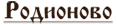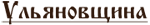Начались нападения немецких рыцарей на Псковскую землю: немцы изгоном напали на Красный городок и Себеж, жгли посады и монастыри, грабили волости
Каменные жилые здания XVII века
Границами владений были «пути» (дороги), «разгонные» и «раскладные» межи, приметные деревья и камни в лесах и на пожнях. Поскольку в деревне сохранялась община, пользование такими угодьями, как сенокосы, водопои, леса было коллективным, но любой полноправный общинник мог по своей воле отчуждать и личную землю, и доли в общинных угодьях. В Пскбвском государстве сложилась устойчивая структура землевладения: землями владели церкви, монастыри, посадники, земцы, крестьяне-общинники (в источниках иногда именующиеся смердами). Характерной чертой землевладения в Псковском государстве была дробность, череспо-лосность и раздробленность.
Архитектура второй половины XV — начала XVI столетия
Второй момент связан со стремлением к укромности, обособленности позиции молящегося, к интимности переживания: «попом и простьцем держати пости и поклон, и милостини и пенье нелицемерное втайне идеже не видит никтоже, не слышит но токмо един бог; в малей церкви, еже есть келья своя ти ту есть лепо; а в великой церкви пети и кланятися до земы то есть не все за ся, но господня часть за ся, ако все за кристьяны и за князя: вернии бо человецы в своей клети бога моляща кланяються за кристьяны и за князя». Эти слова невольно вспоминаются в угловых помещениях псковских церквей, они же определяют многое в их общей пространственной выразительности. Насколько подобные настроения были распространены, показывает сама история псковского монашества. Ни пустынножительство, ни общежительные монастыри не получили в Пскове XIV в. развития. Для первого не хватало отрешенности от мира и напряженности духовного переживания, для вторых — общинной соединенности молитв и отказа от мирских различий, Наиболее подходящими оказались келиотские, особножительные монастыри очень небольшие, от 2 до 7 человек (последние считались большими) имущественные вклады, делаемые при поступлении, возвращались при выходе из монастыря. Отдельный быт и отдельное питание («особь койждо себе в келиях ядяху») — и совместное присутствие лишь в церкви.
Покровская башня
Иконы из Образского храма, подобно чудотворным, были размещены «на оутверже-ние гражаном» в наиболее почитаемых церквах. 1 апреля 1544 г. , спустя 6 лет, вновь горело Полонище. Летописец сообщал, что пожар, охвативший южную часть Полонища, включая монастыри Покрова и Иоакима и Анны, уничтожил более 700 дворов. Главными улицами Запсковья были: Званица (теперь — Леона Поземского) и Большая Запсков-ская (теперь улицы Герцена и Верхне-Вереговая). На них ставили приходские церкви, и к ним тяготели монастыри. Во второй половине XVII века на них, особенно на Званице, стали уже строить дворы псковские богачи.
Храм Георгия со Взвоза
Тогда же было восстановлено первоначальное восьмискатное покрытие (к сожалению, как и нишки на южном фасаде, не совсем точно). Остальные части здания остались в том виде, в каком они были в XIX веке. Монастырь, подобно Старовознесевскому, стоял на горке и, как и многие другие псковские городские монастыри, посреди площади, в которую вливались окрестные улочки. Очень любопытный памятник — двойная церковь Рождества и Покрова в Углу, или на Проломе, принадлежавшая в прошлом Покровскому, монастырю. Построена она, по всей вероятности, в XVI веке.
Архитектура середины XIV — середины XV в.
Соединение широты природного ландшафта и небольшого масштаба архитектуры ощутимо здесь и сегодня, хотя каменные укрепления XVI в. и грандиозный Троицкий собор XVII в. во многом изменили характер городского пейзажа. Говоря об архитектурном облике Пскова, нельзя не сказать об ансамбле окружавших его монастырей. В первой половине XIV в. к югу от города их возникло не менее пяти. Вопреки распространенной точке зрения И. К. Лабутина показала, что все монастыри этого времени были не городскими, а пригородными. Они стояли в стороне от застройки по рекам или у дорог и лишь постепенно, с расширением города, оказывались внутри его стен. Но всегда вокруг города существовали неотделимые от него в речных панорамах небольшие монастыри, придававшие пейзажу приветливость и рукотворность. Эпоха активного каменного строительства начинается в Пскове с 1360-х годов.
Крепостные сооружения
Рядовые строения посада стали крупнее, повысилась их этажность. Деревянная застройка чаще, чем раньше, стала перебиваться каменными зданиями храмов и гридниц. Чуть ли не на всех крупных перекрестках посада появились монастыри с каменными храмами, белые стены которых, звонницы, блестящие главы и кресты просматривались из конца в конец города. Отдельные части города — Кром, Довмонтов город, Средний город и Окольный город с Запсковьем, отличаясь друг от друга, в то же время приобрели архитектурное единство, главным образом благодаря украсившим их каменным церквам. Старым церквам путем их реконструкции, вернее обстройки приделами и галереями, была придана художественная общность с новыми. В частности, это относится к Троицкому собору в Детинце.
Псков и его архитектура в XVI веке
Все они упоминаются впервые только в XVI веке, но были основаны раньше. К северу от города на Запсковском берегу реки Великой «за Варлаамскими воротами» стояли монастырь Лазаревский в Поле и церковь Спаса в Лугу. В XV веке, вероятно, существовал уже и Петропавловский Середкин монастырь. На противоположном берегу реки Великой были монастыри: Николы с Волоку, основанный еще в XIV веке (против Снетогорского монастыря), Стефановский с Луга, Рождественский Иглин. На Завеличье, кроме известных уже нам Мирожского и Ивановского, было еще семь монастырей.
Церковь Константина и Елены
Войска Шигалея и второго воеводы, князя М. Глинского, безжалостно грабили местное население: «И тот князь Михайло людьми своими, едоучи дорогою, сильно грабил своих, и на рубежи люди его деревни Псковские земли грабили, и живот секли, да и дворы жгли христианские». Уже в октябре 1558 г. начались нападения немецких рыцарей на Псковскую землю: немцы «изгоном» напали на Красный городок и Себеж, жгли посады и монастыри, грабили волости. После Николина дня (9 мая) 1562 г. литовский отряд совершил диверсию против Опочки: «…хотели посад зажечи, и гражане не дали зажечи посаду, за надолбами отбилися; и многых от них постреляли з города; и они та же Литва воевали по волостям, и семь волостей вывоевали, и монастыри пожгли». В сентябре 1562 г. новый литовский отряд из Влеха (совр. Виляка) совершил нападение на окрестности Пскова, разорив волости Муравейно и Овсища и захватив много пленных. На местное население тяжким бременем ложилась обязанность поставлять «посоху» — вспомогательные войска, использовавшиеся главным образом во время осады.
Архитектура первой половины XIV в.
Это свидетельствует о нескольких обстоятельствах. Первое — об очень большом авторитете Мирожского монастыря и, возможно, о какой-то преемственности от нега при возникновении Снетогорского. Это были главные и единственно общежительные монастыри до начала XV в. Второе — такое прямое копирование памятника, построенного почти на двести лет раньше, является уникальным в истории древнерусского искусства. Обычно памятник, служащий основанием архитектурной традиции, образует цепь подражаний, начиная с близкого к годам его создания времени.
Застенье
Это было возможно только для очень богатых людей. Поэтому в древнем Пскове встречались также монастыри «мирского построения», то есть основанные на общие средства жителей какой-либо части города. Условия, в которых создавались в Пскове монастыри, придали им весьма своеобразный характер. Они являлись своего рода деловыми предприятиями на паях.
Каменная гражданская архитектура
Повалуша перекрывалась деревянным потолком. По-видимому, совершенно такого же типа были и каменные жилые здания на городских дворах. Сообщая о постройке в 1536 году в Среднем городе палат для архиепископа Макария, летописец добавил, что псковские монастыри ему «повалушу склали» и «мшили» горницы, то есть строили из бревен с прокладкой их мохом. Не меньше чем монастырям и духовным владыкам, каменные палаты были необходимы псковским купцам того времени. В 1510 году великий князь Московский отобрал от псковичей клети на Крому, и с тех пор купцы хранили свои товары и запасы на собственных дворах. Без каменных зданий они уже не могли обойтись.