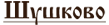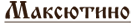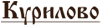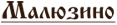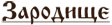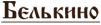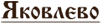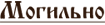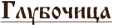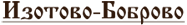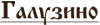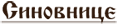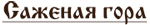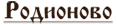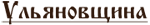Брата государя очевидно, речь идет о Семене
Опыт исторического суждения о псковской архитектуре
Последние, однако, оказывались недостаточно внимательными к краеведческой литературе, что порождало хрупкость рождавшихся эволюционных концепций. Речь идет о таком немаловажном факторе, как датировка памятников. Историки архитектуры брали, как правило, наиболее ранние встречающиеся датировки и не обращали внимания на последующие сообщения летописей.
Кобылины
В жалованной грамоте Федоровской церкви в Новгороде от февраля 1505 г. упоминается о пожаловании «конюшего» Ивана Андреевича Колычева деревнями Влажинского погоста Деревской пятины. Н. П. Лихачев полагал, что Лобан был женат на дочери одного из видных новгородских бояр Есиповых и получил в приданое волостку Бежецкой пятины. Но речь должна идти, судя по именам внуков «Ивана Андреевича», о его племяннике. Около 1495 г. в Деревской пятине поместьями владели как сам Иван Лобан Колычев, так и его сын Степан Стенстур (отец митрополита Филиппа).
Псков и его архитектура в XVI веке
Об этом свидетельствует и ритуал вокняжения, проходивший в Троицком соборе: именно так мирская процедура приобретала трансцендентный, божественный смысл. Речьидетименно о сакральности, а не о святости князя; свою праведность ему необходимо было доказать, а важнейшим доказательством была милость Божия к жителям Пскова. Особую роль благочестие князя играло во время эпидемий. Истоки этой сакрализации следует искать в происхождении княжеской династии на Руси.
Псковское вече
Здесь на небольшой территории располагались 10 церквей и соборс-кая изба, где «священником и дьяконом копитца». В междуречье Великой и Псковы в пределах стены 1374 / 1375 г. , проходившей по трассе современной нам улицы Пушкина, располагалась основная городская территория. Здесь стоял и дворы псковских посадников и других горожан, организованные в особые территориальные структуры — концы. Территории четырех концов были вытянуты в радиальном направлении вдоль средневековых улиц. Административными центрами концов были церкви.
Двор Русиновых
Автор «Повести о псковском взятии» считал, что у великого князя изначально была «мысль, чего ради поехал с Москвы в Великий Новгород, что емоу превратити Псков на свои пошлины». К Василию III с жалобой на наместника отправилось представительное посольство из псковичей, включавшее в свой состав двух посадников и «бояр изо всех концов». Великий князь произнес перед послами пространную речь, содержание которой передал псковский летописец: «Яз вас свою отчиноу хощу жаловати и боронити: яко же отец наш и деды наши великий князи; и что ми повествуете о наместники моем, а о своем князи Иване Михаиловичи Репни, аже толки станут на него мнози жалобы, и яз его обвиню пред вами». По всей видимости, великий князь попытался уверить псковичей в том, что верховная власть будет стоять на защите горожан, как это было в 1479 г. в случае суда между великолучанами и наместником Лыко-Оболенским. Первоначально события действительно разворачивались по такому сценарию. Из этой палаты гости после пира поднимались по лестнице в стене наверх, в третий этаж.
Князья Стародубские
Где-то в начале своей деятельности дал землю в Троицкий монастырь, а около 1472—1488 гг. , возможно, он выступал среди послухов в купчей дьяка Романа Алексеева. Около 1467— 1474 и 1474—1478 гг. выдавал жалованные грамоты в Стародубе Ряполовском, что говорит о сохранении им остатков суверенных прав. Князь Семен с суздальцами и юрьевцами в конце 1477 г. участвовал в походе на Новгород. В источниках, повествующих о событиях 60—70-х годов XV в. , обычно не говорится, о каком из Семенов Ивановичей Ряполовских (Хрипуне или Молодом) идет речь в том или ином конкретном случае. Около 1483 г. кн. Семена Хрипуна постигла опала, а его послужильцы были распущены.
Черниговские князья (Белевские, Воротынские, Одоевские, Мосальские и Мезецкие)
— Оболенским)». Речь в данном случае идет об эпизоде, который относится ко времени княжения Василия I или Василия II. Очевидно, после того как литовские войска сожгли в 1407 г. Одоев, белевские князья вместе со Свидригайлой в 1408 г. выехали на Русь. Волок они получили после отъезда в Литву Свидригайлы (т. е. не ранее 1410 г. ).