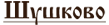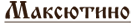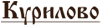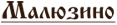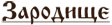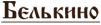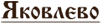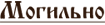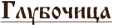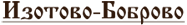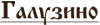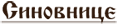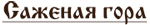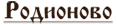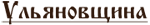Считается, что бояре были землевладельцами и составляли некое сословие
Традиции псковского ремесла
Наиболее ранним актом, содержащим этот термин, является грамота 1463—1465 гг. , направленная «от всех посадников псковских, и от бояр псковских, и от купцов, и от всего Пскова» городскому магистрату Риги. Этот стандартный оборот формуляра встречается в еще нескольких псковских внешнеполитических актах. Так, в посланиях Ивану III1477 г. и польскому королю Казимиру 1480 г. интитуляция включает в себя перечень государственных должностей и социальных статусов псковичей, от имени которых составлялись акты: «…посадники псковские, и степенные, и старые посадники, и сынове посадничьи, и бояре, и купцы, и житьи люди, весь Псков…». Договорная грамота Пскова с Ливонским орденом 1503 г. перечисляет состав псковского посольства, в которое входили двое посадников, пятеро бояр, трое купеческих старост и городской писец. В отличие от этого акта в договоре 1509 г. под «боярами» понимаются исключительно выборные или назначенные должностные лица: «…послы псковские посадники Михайло Юрьевич Ледов, Александр Степанович Киверников, Григорей Яковлевич Котлов, да бояре псковские Иван Харитонович Пученкин староста купецкий, и владычнь наместник Василей Игнатьевич Галкин, Алексей Михайлович старой дияк городцкой и Яков Ермолин староста гостевной и городской дияк Захарья». Вернемся к летописным упоминаниям бояр в последней четверти XV в. В Псковской 3-й летописи содержится сообщение об отправке к Ивану III посольства, состоявшего из четырех человек: «2 посадника, Коузмоу Тилкина да Гаврила Картачева, а с ними 2 боярина, Опимаха Гладкого да Андрея Иванова сына попова рождьякона».
Псковская архитектура XVII века
До XIV в. , периода консолидации московского боярства, вряд ли правомерно считать аристократами всех бояр северорусских княжеств. Закономерно возникает вопрос: можно ли рассматривать псковское боярство как аристократическое сословие? Ведь, коль скоро боярами именуются «гостевной староста», городские дьяки и сын священнослужителя, псковских бояр можно счесть протосословием, пополняемым за счет выходцев из небоярских кругов, выдвинувшихся на государственных и выборных общественных должностях. Думается такая трактовка не противоречит концепции В. Л. Янинд: «…новгородские бояре составляли непополняемую касту Харистократов и были обязаны своей сословной принадлежностью только происхождением от родоплеменной старейшины древнейшего периода новгородской истории, от той сословной верхушки, которая консолидировалась в замкнутую касту еще на протогосударственной. стадии». Ведь генезис городских общин Новгорода и Пскова отличался в главном: начало государственности последнего было положено договорными отношениями с метрополией — Великим Новгородом.
Кончанский храм Петра и Павла с Буя
«Молодших» представителей Пскова переписали и отправили на постой по дворам новгородцев. В Пскове узнали об аресте делегации от купца Филиппа Поповича. В городе немедленно собралось вече, на котором обсуждался один вопрос: оказывать ли сопротивление великому князю, «ставит ли щит против государя, запиратися ли во граде?» Летописец говорит, что псковичи упоминали крестное целование в качестве довода против сопротивления войскам великого князя, но, по всей видимости, главной причиной отказа от сопротивления стало отсутствие в городе правящей элиты — «посадники и бояре и лутчие люди вси у него». Вече решилось лишь на очередное посольство — в Новгород был направлен сотский Евстафий с челобитьем о том, чтобы Псков сохранил статус «старинной вотчины» великого князя. Василий III отправил в Псков своего посла дьяка Третьяка Долматова, который объявил волю великого князя на вече 12 января.
Старинная штукатурка
Во время провозглашения многолетия и благословения великому князю прозвучали слова о взятии Пскова подобно неприятельской крепости, что вызвало замешательство у находившихся в церкви псковичей. Они расценивали свое решение как добровольное, а не принудительное. «В неделю», то есть в воскресенье, 27 января по приказу великого князя на наместничьем дворе собрались посадники, бояре, купцы и житьи люди. Воевода Петр Васильевич Великий по списку вызывал бояр и купцов в гридню, где они были арестованы.
Новгород-Северское княжество Василия Ивановича Шемячича
Осенью 1507/08 г. он ходил вместе с В. С. Стародубским в поход в Литву на помощь М. Л. Глинскому. В 1508 г. встречал отъехавших на Русь М. Л. Глинского «с братьею». 18 января 1511 г. ему были написаны три опасные грамоты. В одной из них Василий III снимал с него обвинения в измене , возложенные на Шемячича князем Василием Стародубским, в другой митрополит гарантировал князю безопасный приезд в Москву, а третью давали великокняжеские бояре. Воспользовался ли этой гарантией Шемячич, остается неясным. Весной 1512 г. оба князя обороняли русские «украины» на юге.
Рязанское боярство
По «родовому письму» Шиловских (середина XVI в. ) брат Прокопия Григорий Давыдович был окольничим кн. Ивана Федоровича (1427—1456 гг. ). В том же письме есть краткое сведение о происхождении (вероятно, литовском) этого боярского рода. Дядя Прокофия и Григория Тимош Александрович около 1371 г. был боярином кн. Олега Рязанского. Итак, виднейшие тверские нетитулованные бояре, издавна связанные с Москвой, перешли на службу к Ивану III еще в 1476 г. , т. е. задолго до падения независимости Твери. Поэтому в конце XV—первой трети XVI в. они сумели упрочить свои позиции при великокняжеском дворе. Но даже при этом они в московскую Боярскую думу в изучаемое время не попали, числясь по-прежнему (во всяком случае, до 1509 г. ) тверскими боярами и окольничими (Тверь после 1485 г. и до начала XVI в. находилась на положении удела наследника престола]. Особым доверием Василия Ш пользовались Карповы, один из которых (Никита Иванович) возглавил важное ведомство оружничего, а другой (Федор Иванович) сделался одним из крупнейших дипломатов и публицистов.
Псковские керамические памятные плиты XVI века
Однако и после полного политического подчинения Пскова Москве (1461 г. ) дар мог передаваться не только великокняжеской семье. В июне — августе 1463 г. в конфликте с Ливонским орденом союзническую помощь Пскову оказывало войско под командованием московского воеводы князя Ф. Ю. Шуйского. Перед его отъездом бояре «даша ему дару от Пскова 30 рублев, а боляром его, что с ним были, даша 50 рублев». Любопытно, что 50 рублей, полученные боярами Шуйского, не названы в летописи даром; таковым, с точки зрения летописца, является только сумма, переданная князю.
Тверское боярство
Были у Житовых тогда же владения и в Старице. Тверские бояре Коробовы, так же как и Бороздины, возводили свой род к одному из литовских выходцев. К той же семье принадлежал Иван Яковлевич Киндырь, бывший уже в 1452 г. наместником в Кашине. Выехав в Москву, сын Киндыря Дмитрий сразу же вошел в состав видных военачальников.
Укрепления Пскова
В сообщении о сражении псковичей с новгородцами, происшедшем под Ольгиной горой вскоре после 8 августа 1394 г. , говорится, что новгородцы потеряли убитыми «инех боляр много». В сообщении о пожаре в Пскове 31 мая 1406 г. упоминается великокняжеский посол «болярин» Никита Неелов. Собственно псковскими боярами впервые названы послы в сообщении Псковской 2-й летописи о заключении вечного мира с Новгородом в 1397 г. : «Того же лета послаша псковичи князя Григориа, и посадника Сысоя, и Романа посадника, и иных бояр в Новгород…». Любопытно, что в 1-й летописи термин «бояре» заменены определением «дружина» («посадников и дружину их»)35. Погибшие псковские бояре упоминаются в сообщении о битве с немцами на Логозовичском поле 18 августа 1407 г. Посадники и «иных много бояр» участвовали в переговорах с Ливонским орденом в Кирьипиге и Изборске 20 июля 1410 г. Бояре Ларион, Аким, Юрий В инков и «иные бояре» входили в состав псковского посольства в Новгород в 1417,г.